Архив новостей → (2) "ГРЕХИ" И ПОКАЯНИЕ МИХАИЛА РОММА.
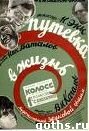
(2) "ГРЕХИ" И ПОКАЯНИЕ МИХАИЛА РОММА.
Правду сказать, наши авторские отношения на "Обыкновенном фашизме" складывались не так идиллически, как может показаться по предыдущим страницам. "Отношения" эти в кино соподчинены, субординированы традицией. На "Мосфильме" господствует диктатура режиссера. Наивные критики, мы не знали этого и полагали, что работа будет протекать в духе свободы, равенства и братства.
Правда, Михаил Ильич с самого начала попытался милосердно вывести нас из этого заблуждения. "Понимаете ли вы, что если фильм не получится, то виноваты будете вы, втянувшие Ромма в авантюру, а если получится, то это будет фильм Ромма, а вы останетесь ни при чем?" (Время показало, что Михаил Ильич "зрел в корень".) А тогда - мы поняли, согласились. Но, как показало дальнейшее, не осознали. В нас продолжало бушевать самосознание критической вольницы (мы вовсе не ощущали себя тогда "сферой обслуживания" при деятелях искусства) и паритетности авторских прав.
Любя все кинематографические подразделения и любимый всеми подразделениями "Мосфильма", один род участников картины Михаил Ильич втайне не привечал: сценаристов. Может быть, ревновал к рождающейся вещи. Или полагал, что, сделав свое дело, мавр должен уйти. У автора игрового сценария была такая возможность: отдав свое детище в руки режиссера, отойти на дистанцию. У нас такой возможности не было. Документальный фильм рождается день за днем: споры были неизбежны.
Тогда я вспомнила старинную маленькую хитрость и предложила Юре впредь выдавать наши соображения за роммовские - важен, в конце концов, результат, а не приоритет. Юра огрызнулся: "Вот ты и выдавай". Как мужчина он был амбициознее, а как человек с собственной потенцией к лидерству больше страдал от неписаной иерархии "Мосфильма". Я согласилась и, приходя к Ромму, невинно говорила: "Михаил Ильич, помните, недели три назад вам пришла очень зернистая мысль..." Михаил Ильич задумывался, стараясь припомнить обстоятельства, и как минимум почва для обсуждения этой мысли была налицо. Со временем, естественно, он стал догадываться об "уловке-22" и, едва я открывала рот, спрашивал ехидно: "Ну, Майя, какая гениальная идея пришла мне в голову на прошлой неделе?.." Мы смеялись, что тоже облегчало дело, но не ликвидировало трудностей. Приходилось изобретать другие маневры. Иногда мы внедряли что-нибудь осадным путем, иногда - обходным. Мы долго, например, носились с идеей положить кадры злодеяний на какой-нибудь вполне безобидный, веселенький даже маршеобразный мотивчик, собрали целую коллекцию немецких солдатских песен и маршей, в том числе и "Лили Марлен". Но Михаил Ильич морщился. Теперь это отношенный прием, как и многое другое в "Обыкновенном фашизме", а тогда было шоком. Однажды нас потихоньку позвал наш замечательный звукооператор Сергей Петрович Минервин и показал уже смонтированный Роммом кусок, который он положил на народную песню, ставшую солдатской. Пленка ожила, и мы были счастливы, когда Михаил Ильич из рук Минервина принял этот прием: на нем построена глава "Обыкновенный фашизм".
У меня на полке стоит черная книжка с характерным белым профилем-шаржем - "Беседы о кино". На титуле Михаил Ильич написал: "Майе Туровской на добрую (а вдруг недобрую - не может быть) память о фашизме режиссера и его диктаторских замашках".
Наверное, про себя он знал, как трудно было с ним начинающим, но упрямым сценаристам, и смею думать, что под его "тайным недоброжелательством", как говорят в гаданиях, к тому настырному соавтору, которого представляли мы с Юрой, крылась наша с Роммом обоюдная, но еще более тайная приязнь. Эта забавная и, как всегда бывает в человеческих отношениях, сложная расстановка сил стала очевидна, когда и фильм, и тревоги остались позади.
Вообще же приязнь Ромма к людям - а к своим ученикам какая-то материнская привязанность - была неиссякаема. Он мог ядовито и смешно позлословить о равном - о каком-нибудь соседе-режиссере (дом на Полянке был просто напихан режиссерами - сверстниками Ромма), но перед учениками он был безоружен. Он опекал их - благодарных и неблагодарных, своих и чужих - как хлопотливая наседка. Он был им учителем, нянькой, ходатаем, заимодавцем, советчиком, старшим другом, иногда учеником - "не счесть алмазов" души и сердца, которые он на них расточал. Если "натуральная школа" русской литературы вышла из "Шинели" Гоголя, то едва ли не вся школа советской кинорежиссуры 60-х осенена была довольно поношенным пиджаком Михаила Ильича Ромма.
То по коридору "Мосфильма" бежит за ним юная, длинноногая Лариса Шепитько, на ходу уговаривая бросить взгляд на ее пробы к "Крыльям": "У меня две актрисы на главную роль, одна - верняк, а другая - странная, Михаил Ильич, взгляните". - "Одна верняк, а другая?" - "Другая - замечательная". - "Ну вот, ты уже выбрала без моей помощи, это режиссерский ответ". И все мы, не замедляя хода, бежим дальше.
То в монтажной появляется социально озабоченный Чухрай со своими проблемами, и Михаил Ильич, пошептавшись, усаживает его в наш просмотровый зал 16, уже как эксперта.
То домашнее волнение: только что ушли Андрей Тарковский и Андрон Кончаловский, которые приходили выяснять свои отношения с Олегом Осетинским, - Михаила Ильича волнует уже не творческий, а человеческий облик молодого поколения.
Насколько я могла наблюдать, ученики платили ему тем же. Когда Ромм болел, в больницу было не пробиться. Лекарства возили со всех сторон света.
Помню, никак не могли вылечить радикулит. Михаил Ильич пробовал на себе все, что попадалось под руку. Наконец какое-то иностранное лекарство помогло, и Ромм мог торжествовать над врачами. Коробочка с лекарством поселилась на его огромном заваленном рабочем столе. Однажды, между делом, я достала из коробочки сигнатурку и дала себе труд углубиться в нее: лекарство оказалось от чего-то совсем другого! Мы долго потешались, но Михаил Ильич признать свое медицинское заблуждение и не подумал - у него вообще была эта слабость: превзойти специалистов на их же территории.
Я бы не стала вспоминать этот пустяк, но в личности Михаила Ильича было вообще много детского. Он, который не боялся публично говорить о своих режиссерских и человеческих заблуждениях, расстраивался ужасно, если страдало его реноме повара; радовался, если (будучи далек от ухищрения моды) мог переплюнуть с иголочки одетого Юткевича каким-нибудь пижонским галстуком; был непререкаем в своих вкусах в каждый данный момент, хотя сам, естественно, менял их, как всякий живой человек.
Как ни странно, я думаю, что эти детские черты очень помогали Михаилу Ильичу в его режиссерской работе. Наверное, во всяком художнике должно оставаться что-то детское. Что Ромм был умен, ироничен, знают все: многие думают, что он был, как теперь говорят, "интеллектуалом". Интеллигентом - конечно, но интеллектуалом - никак нет, о чем мы с Юрой написали еще при нем. С нами он сделал самую "интеллектуальную" свою картину, и много чернил было пролито потом на эту тему, но работал он, что называется, "от пупа" скорее, чем от головы, и больше всего доверял своей интуиции, как и положено художнику. При блеске своего ума, искрометности своей иронии он сохранял здоровую, неиспорченную натуру нормального зрителя, ему было интересно то, что интересно многим, и именно поэтому его картины были всегда интересны всем. Непонятных и непонятых картин у него не было, и едва ли могли они быть.
Дело даже не в установке, им выдвинутой: картину о фашизме должно поглядеть как можно больше людей; не в том, что он режиссерски рассчитывал на это. При огромных своих режиссерских знаниях он на наших глазах продирался сквозь сопротивление материала не умением, а человеческим своим существом, нервами, кровью, душевным опытом. Когда группа должна была просматривать свидетельства фашистских зверств, собранных нашими операторами для Нюрнбергского процесса, Ромм сказал: "Майя, у вас маленький ребенок, вам незачем смотреть это, я вас освобождаю".
Материал ранил его, задевал, иногда оскорблял его патриотические чувства, злил, нередко смешил - Михаил Ильич остро реагировал на нелепое, собирал его. Это счастье, что ему достались 60000 метров пленки, а 2 миллиона метров просмотрели мы, группа, иначе он просто не мог бы сложить картину - так много своего человеческого состава Ромм в нее вложил.
Наверное, пришло время вслух задать авторам вопрос: насколько, задумывая фильм, исходили они из собственного опыта, из "проклятых вопросов" своей, тогда еще недавней истории? Вслух, потому что про себя каждый из миллионов наших соотечественников, просмотревших картину, я думаю, "идентифицировался" с ней на двух уровнях: еще сравнительно недавней борьбы с фашизмом и совсем недавнего сталинизма.
Впервые мне пришлось отвечать на этот вопрос в 1967 году в Мюнхене, куда меня послали с картиной. Он был сформулирован несколько иначе:
"Зачем вам делать картину о других, когда у вас был свой "культ личности"?" Я ответила с наивозможной тогда честностью: "Видели ли вы людей, которые делают фильмы о других, не опираясь на собственный опыт?" Вспоминаю об этом главным образом потому, что "телега" пришла не в кинематографические инстанции, а прямо в секретариат Суслова, и притом от немецкого информанта. Это было для меня столь же ново, как и первая (впрочем, на долгое время и последняя) встреча с Западом.
На самом деле ответ на вопрос, поставленный выше, вовсе не столь однозначен. Помню, нам попалось в хронике очередное национал-социалистское мероприятие, где открывали какую-то стелу; на ней было начертано что-то о труде, подозрительно напоминавшее "дело чести, доблести и геройства". Мы с визгом притащили материал Ромму, но Ромм омрачился и дня два был удручен - сюжет не взяли; зато когда нашлись академики в мундирах, он ликовал: вот уж чего у нас не могло быть! Слишком прямолинейные "аллюзии", как тогда говорили, искренне огорчали его. Но была глава, где он не пропустил ни одной аллюзии, мстительно собирая все, что могло бы напомнить нас самих. Это глава об искусстве с эпиграфом из Гитлера: "Художникам надо время от времени грозить пальцем". Она была узнаваема неотразимо и, может быть, поэтому больше других осталась в своем времени.
На самом деле кое-что из того, что нынче кажется в фильме уступкой, было предметом наших споров и тогда. Но человеку положен предел.
Всякого человека формирует какое-то время. Наше поколение до сих пор осталось "шестидесятниками" со всеми, как говорят, вытекающими. Ромма сформировали тридцатые годы. Способность к переосмыслению, критическому взгляду в свое и общее прошлое была у него намного выше среднего. Но это была длительная и трудная душевная работа, а не "налево кругом", как нередко мы наблюдали впоследствии.
Когда - задним числом - я хочу сформулировать для себя, чем был на самом деле "Обыкновенный фашизм" для Михаила Ильича, то думаю: наверное, чем-то вроде "покаяния".
Когда-то мы писали, что Ромм преодолевал документальность документального материала: он искал смысл. Теперь я добавила бы: он пробивался не только к смыслу, но и к самому себе.
Может быть, еще и поэтому мы были так докучны ему: мы обращались к его интеллекту, предлагали продуманное и обспоренное, а ему надо было до всего дойти, доскрестись, допереть самому.
Когда были дописаны последние фразы дикторского текста и измученный Ромм вышел из студии, он посмотрел на нас и сказал: "У меня такое ощущение, что я истратил все серое вещество, у меня пересох мозг".
Со временем, когда "Обыкновенный фашизм" остался позади, прочно закрепившись за Михаилом Ильичом ("фильм Ромма"), из наших споров ушла воспаленность, если не острота, и отношения стали простыми и дружескими. Теперь в качестве людей, так сказать, неофициальных, неавторов мы оказывались свидетелями теневой стороны его поисков, роммовской растерянности...
В "Обыкновенном фашизме" Ромм счастливо открыл неоспоримо "свой" жанр, прямой разговор со зрителем. Жанр этот вскоре же стал эпидемией в документальном кино, но повторить Ромма никто не смог: это была территория его таланта. Был реализован и круг возможностей материала. По контрасту Михаил Ильич привнес в нацистскую хронику внеположную ей тему добрых начал человека; из ужасности зла сумел добыть его комическое и обыденное обличье (в этом смысле фашизм был освоен в фильме действительно как "обыкновенный", демонизм его был успешно преодолен); наконец, он вложил в картину ту надежду на освобождающую силу разума, которая была собственноручно добыта поздним опытом удачливой и трудной жизни.
Иными словами, форма монтажно-исторического фильма была на тот момент Роммом амортизирована. Сейчас в фильме явственно заметна принадлежность своему времени - его надеждам, предрассудкам, приемам и просто ритмам, хотя посыл его, увы, не устарел.
Сейчас из отдаления истории ничего не стоило бы локализовать тему: шел турбулентный 1968-й...
Но это была бы другая тема, не та, ради которой Ромм взялся за труд.
Пастернак когда-то написал: "...смерть можно будет победить усильем воскресенья". Так, усильем воскресенья, Ромм победил тупой и страшный материал фашизма.
...Когда Михаила Ильича не стало и мы похоронили его на Новодевичьем кладбище, в виду надгробия Хрущева, я еще раз после смерти родителей пережила тоскливое чувство сиротства. Наверное, не я одна, многие. Видеться можно было реже или чаще; развести руками беды. Но жить, зная, что на свете есть Ромм, было почему-то легче.
МАЙЯ ТУРОВСКАЯ.
00:04 25.01
Лента новостей
|
Форум → последние сообщения |
Галереи → последние обновления · последние комментарии →
|
Мяу : ) Комментариев: 4 |
Закрой глаза Нет комментариев |
______ Нет комментариев |
ере Комментариев: 2 |
IMG_0303.jpg Комментариев: 2 |







